или зарегистрируйтесь.
Если вы забыли пароль, то введите ваш e-mail, и мы отправим инструкцию по восстановлению на почту
Майк Адлер объясняет, почему математики и ученые1 не любят философию, но все равно ею занимаются.
___________________________________________
1 В английском языке естественные науки и науки гуманитарные именуются двумя различными словами: первые называются sciences, а последние — humanities. Соответственно, и ученый-гуманитарий — это, строго говоря, не scientist, а scholar. Поэтому здесь и далее по тексту я буду пользоваться словом «ученый» в его узком, «английском» значении. По этому поводу, кстати, однажды замечательно пошутил профессор математики из СПбГУ Н. А. Вавилов на одной из своих лекций, сказав, что если о компетентности ученого, занятого естественными науками, принято судить по тому, насколько хорошо он знает, как устроен мир, то гуманитарию для поддержания своего высокого научного статуса требуется лишь хорошо знать, что когда-то думали и говорили другие гуманитарии...
Хочу обратить внимание, что даже с этими оговорками автор статьи продолжает различать ученых и математиков. Это также неслучайно, поскольку математическое знание является не опытным, а аксиоматическим — математика заботит исключительно строгость выводимых им следствий из некоторого набора аксиом. Связь же самих аксиом с тем, что происходит «на самом деле» должна обосновываться дополнительно и уже не математическими, а какими-то другими методами (Программной в этом смысле является знаменитая лекция Юджина Вигнера, прочитанная им 1959 году в Нью-Йоркском университете. См. Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии. — М., 1977).
___________________________________________
В этом я не одинок. Большинство ученых и математиков считают философию чем-то средним между социологией и литературной критикой, причем последние располагаются в их списке полезных занятий, которыми можно было бы развлечь себя перед ужином, далеко позади, скажем, поцелуев слизней2. Почему так обстоит дело? Неужели мы недостаточно сообразительны, чтобы понять ее? Cлишком стереотипно мыслим, чтобы заметить ее стимулирующий характер? Слишком поверхностны, чтобы схватить по- настоящему глубокие идеи? Или, может быть, мы со всем этим уже давно разобрались и оставили позади? Я попытаюсь объяснить, почему ученые и математики не склонны воспринимать философию всерьез и в то же время сами философствуют — только имя изменено, чтобы, разумеется, защитить невиновных3.
___________________________________________
2 Поцелуй большого бананового слизня — достаточно безобидная, но требующая определенной отваги процедура, приносящая, по преданию, удачу. Также используется в качестве полушуточного «обряда посвящения» в некоторых бойскаутских лагерях США.
___________________________________________
___________________________________________
3 Фразой: «Дамы и господа, история, которую мы сейчас вам расскажем, является подлинной. Имена в ней изменены, чтобы защитить невиновных» неизменно начинался культовый американский криминальный сериал 50-х годов теперь уже прошлого столетия «Облава» (Dragnet).
___________________________________________
Когда я учился классе в третьем или четвертом, самый коварный из наших учителей как-то задал вопрос: «Что произойдет, если подействовать силой, которой невозможно противостоять, на объект, который невозможно сдвинуть?» Первым делом мне в голову пришло, что если силе противостоять невозможно, то объект должен сдвинуться. «А-ха! — воскликнул учитель, определенно когда-то побывавший на моем месте — так ведь объект-то — несдвигаем!». Три последующих дня я думал только об этом, делая короткие перерывы, чтобы поспать. В конце концов я решил, что должно быть язык превосходит саму Вселенную, если позволяет соединить в одном предложении вещи, которые в реальности вместе не встречаются. Реальный мир, в принципе, мог бы содержать объект, который до сих пор не был никем сдвинут, как он мог бы содержать и силу, которую еще ничто не остановило, однако решить вопрос о том, действительно ли этот объект несдвигаем, можно было бы, лишь подействовав на него этой самой силой, и посмотрев, что из этого получится. Объект либо сдвинется, либо нет, и это будет означать, что либо объект, считавшийся ранее несдвигаемым, таковым не является, либо сила, считавшаяся неодолимой, на самом деле одолима.
Из сказанного вы можете заключить, что даже в детстве я был более склонен к науке, чем к философии.
Как-то, уже спустя много лет после моего первого «знакомства» с философией, я работал в своем кабинете западно-австралийского университета — писал компьютерную программу. Робкий стук в дверь помешал мне, но я все же пошел открыть и обнаружил небольшого роста человека, смущенно стоявшего за дверью. Я пригласил его войти и спросил, чем я могу ему помочь. Как оказалось, он пришел с нашего философского факультета. Его интересовало, правда ли то, что, как ему сказали, я занимаюсь искусственным интеллектом. Я ответил, что действительно работаю с искусственными нейронными сетями, моделирующими некоторые функции мозга: в частности, их можно научить распознавать образы. И я исследую такие сети, поскольку с их помощью нам, возможно, удастся прийти к пониманию того, как учится наш мозг. «В таком случае я пришел сказать вам, что вы напрасно тратите свое время», — вежливо сообщил мне гость. Я поинтересовался, почему он так думает, и он мне разъяснил. «Между людьми и машинами существует фундаментальное различие, которое вам никогда не удастся преодолеть. Люди могут совершать ошибки, а машины нет», — заявил он с нотками триумфа в голосе.
«Моя программа совершает ошибки, — терпеливо возразил я. — Я обучил нейронную сеть узнавать в числовой последовательности число 3. Иногда она сообщает мне, что 5 это 3. Если я достаточно часто поправляю ее, то она начинает сообщать, что 3 это 5. Если ее обучать попеременно то на „тройках“, то на „пятерках“, то в конце концов она определяет их правильно, но начинает думать, что любое число это либо 3, либо 5. У меня еще не хватило терпения обучить ее распознавать все цифры верно, но я убежден, что со временем это достижимо, хотя, возможно, для этого потребуется сеть побольше. До тех пор она будет совершать ошибки».
«Эхе, — протянул он с видом человека, определенно что-то знающего, — но это ведь не настоящие ошибки. Машина лишь делает то, что должна делать, поскольку вы ее соответствующим образом запрограммировали».
По причинам, понятным всякому ученому, но далеко не всякому философу, я стал понемногу терять самообладание.
«Во-первых, — сказал я, — сейчас уже практически нет сомнений в том, что наш мозг — это такая же машина, и поэтому совершаемые ею „ошибки“ ничем не отличаются от тех, что делает моя нейронная сеть. Мы называем их ошибками, поскольку эта машина не работает так, как мы от нее ожидаем. Но при этом она следует алгоритму, который она или унаследовала, или усвоила, в точности так же, как это делает нейронная сеть. А во-вторых, вы занимаетесь тем, что Бертран Рассел называл заключением о свойствах мира на основании языка, которым этот мир описывается. Что не является надежным способом понимания того, как на самом деле мир устроен. Вот почему у нас есть Наука».
Наш спор продолжался еще несколько часов, пока, наконец, мое терпение не улетучилось полностью.
«Послушайте, — сказал я ему, — мне кажется, что вы просто пытаетесь настаивать на определенном словоупотреблении. Вы хотите, чтобы я называл ошибки, которые совершаю я, настоящими ошибками, а ошибки, совершаемые моей программой — имитацией ошибок, по той лишь причине, что вам кажется, будто бы я неправильно использую язык. Но люди используют язык метафорически столько, сколько он существует. Это все равно, что запрещать людям называть ножку стола ножкой на том основании, что она отличается от ноги человека, и поэтому есть серьезный риск, что кто-то станет опасаться повредить ее, оставив на ней царапину. Однако, философам в этом вопросе никто не предоставлял никаких привилегий: люди будут продолжать говорить, что у стола есть ножки, и им нет никакого дела до того, что философы думают иначе. И то же самое касается ошибок».
Мой собеседник возразил, что ни на каком словоупотреблении он не настаивал, а лишь старался найти истину, используя философские методы.
«Философские методы вроде тех, которыми пользуетесь вы, устарели, как минимум, три столетия назад, — ответил я. — Их безрезультатность в деле отыскания истины была доказана неоднократно. А теперь прошу вас, уходите по-хорошему — у меня полно важных дел, а эта беседа явно ни к чему, кроме повышения моего давления, не ведет».
Это было, конечно, невежливо, но одинаково невежливо, в таком случае, и намеренно отвлекать меня пустяковыми разговорами. Правда, его невежливость не имела злого умысла, а проистекала из незнания или недопонимания, однако Вселенная весьма жестоко обходится как с несведущими, так и c глупцами — так с чего бы мне быть добрее Вселенной? Прошу заметить, что в своих размышлениях об ошибках мой маленький философ был не оригинален: нечто подобное можно найти на странице 77 «Записных книжек» Самюэля Батлера, автора «Нигдеи»4. Вообще же я считаю, что тратить время на ошибку прилично лишь в том случае, когда она сама утонченно неприлична — как, например, в этом объявлении: «Mrs. Smith having cast off clothing of every description invites inspection»5.
___________________________________________
4 Адлер имеет в виду то место в «Записных книжках», которое озаглавлено у Самюэля Батлера как «Власть совершать ошибки» (Power to make mistakes). Здесь Батлер пишет, что, по его мнению, возможность ошибаться действительно является одним из критериев, в соответствии с которым люди обычно судят о живом: «если бы кислород мог ошибиться и принять за водород какой-то другой газ, и таким образом научился бы в дальнейшем их не путать, то мы бы назвали кислород живым». Немногим выше, рассуждая об органическом и неорганическом, Батлер высказывает сходную мысль о том, что мы не считаем неорганическую материю живой и, тем более, отказываем ей в интеллекте на том лишь основании, что не способны рассмотреть с должной степенью детализации происходящие в ней процессы — в частности, потому что они протекают чрезвычайно медленно. Удивительно, насколько эта мысль напоминает то, что Д. Деннетт значительно позже назовет «шовинизмом шкалы времени» (См: Деннетт Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания) .
___________________________________________
___________________________________________
5 Речь идет о пропущенном тире в прилагательном cast-off (поношенный, старый, бывший в употреблении, секонд хэнд). В результате смысл объявления оказывается действительно весьма неприличным, поскольку теперь мисс Смит приглашает всех желающих посмотреть не на те разнообразные старые вещи, которые она выставила на продажу, а на то, как она сама снимет с себя всю одежду. Особой пикантности добавляет этому объявлению иногда встречающаяся концовка — at a shilling a head. Применительно к вещам, это должно было бы означать — «по шиллингу за штуку», тогда как контекст, радикально искаженный простым отсутствием тире, предлагает совсем иную интерпретацию — «по шиллингу с человека».
___________________________________________
Мой маленький визитер далеко не единственный платоник, бросающий вызов людям, пытающимся писать думающие программы. Философ Джон Сёрль предложил в свое время мысленный эксперимент (с Китайской комнатой) с этой же целью6, и был встречен с такой же непочтительностью математиками, учеными и представителями так называемой «искусственной интеллигенции». Для всех этих людей способом выяснить, возможно ли написание думающей программы, является попытка ее написать и посмотреть, что из этого получится. Что же до того, «действительно» ли такая программа думает, обладает интеллектом, или только имитирует мышление, то ученого, прежде всего, будет интересовать следующее: «Какая процедура позволила бы вам различить эти два случая?». И опять-таки, ответ «напряженное мышление» вызовет лишь усталую улыбку и быстрое прощание.
___________________________________________
6 Этот широко обсуждавшийся в философской литературе мысленный эксперимент Джона Сёрля имел своей целью обосновать невозможность «сильного искусственного интеллекта» (термин, который также придумал Серль) — точки зрения, в соответствии с которой компьютер, способный убедить нас в том, что он — человек (т. е. прошедший тест Тьюринга), должен считаться думающим в том же самом смысле, в котором думающим является человек. Серль предлагает нам представить его, не умеющего ни читать, ни писать по- китайски, закрытым в комнате с набором инструкций, при помощи которых он некоторой входящей последовательности формальных символов (вопросам, написанным на китайском языке) ставит в соответствие и возвращает другую последовательность формальных символов (написанных на китайском языке ответов) таким образом, что у находящихся за пределами комнаты и владеющих китайским языком составителей вопросов создается полное впечатление, что им отвечает человек, понимающий китайский язык. Но, поскольку, по условию эксперимента, это не так, то мы должны согласиться и с тем, что «убедительно» манипулирующая формальными символами машина также не понимает смысла «беседы», в которой она участвует — и, следовательно, не мыслит.
Однако, как совершенно справедливо замечает все тот же Д. Деннетт, «очевидность» аргумента Сёрля лишь кажущаяся, и основана, как и любой трюк фокусника, на отвлечении внимания зрителя. В данном случае наше внимание намеренно направляется на манипулирующего символами человека, тогда как нам сделовало бы сосредоточиться на самих инструкциях и постараться действительно вообразить во всех деталях, каким невероятно сложным должен был бы быть предписываемый ими алгоритм! Возможно, если бы мы затем спросили себя, «знает ли китайский язык» эта воображаемая пачка карточек, то наш ответ был бы уже не так «очевиден». А еще последовательнее было бы постараться понять, что именно нам предлагается вообразить в этом мысленном эксперименте, и твердо ли мы уверены, что нам это удалось. На этот момент очень точно указывает Д. Хофштадтер в статье «Тест Тьюринга: беседа в кафетерии». Он пишет, что любой специалист, разбирающийся в искусственном интелекте и компьютерной архитектуре, скажет вам, что машина, которая будет способна поддерживать продолжительный, более или менее содержательный разговор, не может содержать необходимую для этой задачи библиотеку готовых синтаксических конструкций в своей памяти — это был бы поистине астрономических рамеров массив данных, еще и весьма причудливо проиндексированный, чтобы машина имела возможность к нему должным образом обращаться. Поэтому те, кто думают, что устройство, похожее на музыкальный автомат, как пластинки извлекающее из своей памяти нужные предложения, пройдет тест Тюьринга, просто не понимают, о чем говорят. Даже АйБиЭмовский Watson, победивший в 2011 году двух мирового уровня интеллектуалов в игре Jeopardy, только частично был запрограммирован вручную, и большей частью своих знаний овладевал самостоятельно (прочитав 200 миллионов страниц документов, включая всю Википедию и другие энциклопедии), следуя алгоритму иерархического статистического обучения, который лишь определенным образом организовывал его «опыт».
И вот нас хотят уверить, что нет ничего проще, чем «представить себе» подобную потрясающе сложную конструкцию, и, более того — за всеми выполняемыми ею высокоорганизованными, динамичными и, вообще говоря, ни коим образом не контролируемыми нами задачами, одновременно видеть и понимать все реализующие их исполнение механизмы.
___________________________________________
К настоящему моменту я высказал ортодоксальную позицию ученого: к истинам о том, как устроена наша Вселенная, нельзя, вообще говоря, прийти только путем рассуждения. С помощью рассуждений мы можем лишь из одних истин получать другие истины. И поскольку истин, с которых мы могли бы начать, мало, все наши гипотезы приблизительны, а число наблюдений с необходимостью конечно, одной только силой мысли достоверных знаний о мире нам никак не получить. Большинство ученых по большому счету являются позитивистами-попперианцами7: они придерживаются той точки зрения, что их профессиональная деятельность складывается из конечного числа наблюдений, некоторых общезначимых универсальных гипотез, из которых могут быть сделаны выводы, и что эти выводы следует проверять последующими наблюдениями, потому что хоть эти выводы и являются строго логическими (в сущности — математическими), нет гарантии того, что они не окажутся некорректными. Сама идея того, что, размышляя, можно прийти к надежным истинам, попросту устарела. Так думал Платон, но Платон ошибался. Такая точка зрения на сегодняшний день является общепринятой среди ученых, и было бы неправильно пытаться скрывать, что ее разделяю и я.
___________________________________________
7 Карл Поппер — один из самых влиятельных философов науки XX века.
___________________________________________
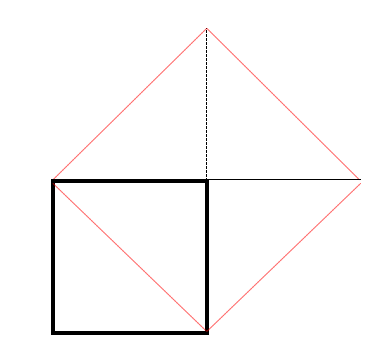
___________________________________________
8 Карл Роджерс — один из основателей гуманистической психологии и основоположник так называемой личностно-ориентированной психотерапии. Несмотря на то, что данный вид психотерапевтического воздействия позиционируется как недирективный, т. е. такой, в котором влияние терапевта должно быть сведено к минимуму, существует ряд исследований (Мюррей и Джекобсон, 1971), убедительно демонстрирующих, что это далеко не всегда так. О результатах этих исследований Джером и Джулия Кларк пишут в своей книге «Убеждение и исцеление» следующее: «Это открытие подтверждалось детальным анализом высказываний Карла Роджерса, родоначальника недирективной терапии, и пациента, находящегося у него на продолжительном лечении. Исследователи выделили девять типов вербального поведения пациента. Они обнаружили, что несмотря на свою теоретическую позицию, в соответствии с которой терапевт обязан неизбирательно встречать теплом и сочувствием все сказанное пациентом, доктор Роджерс избирательно реагировал повышенной эмпатией, теплом или прямым одобрением только на пять таких типов и никак не поощрял остальные четыре». Авторы затем заключают, что «пациенты, особенно должным образом подготовленные, также легко поддаются влиянию в ходе недирективной терапии, как и при директивной... Пациенты, проходившие роджерианскую клиент-ориентированную терапию, следовали невольным подсказкам терапевта, и в случае успешного лечения пациент менял свои ценности и начинал разделять ценностные установки своего терапевта». (См: Klark J. D., Klark J. B. Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy. The Johns Hopkins University Press, 1993.
___________________________________________
Когда читаешь «Начала» Евклида и видишь, как, один за другим, там строятся все новые и новые выводы математических положений из ничтожно малого набора аксиом9, невольно оказываешься поражен тем, чего можно достичь путем долгих и тщательных рассуждений. А в те времена, когда результаты были относительно свежими, впечатлительному уму вполне могло казаться, что предела для данных методов не существует в принципе.
___________________________________________
9 Полный список аксиом и постулатов геометрии Евклида можно найти здесь.
___________________________________________
Евклид начинает с определений (вообще говоря, не вполне корректных) точек и линий. Важно понимать, что эти объекты (как указывает само слово «геометрия») являются абстракциями, полученными в результате наблюдений за способом, которым египтяне имели привычку размечать довольно пологие берега Нила, вбивая в них колышки, и соединяя их между собой туго натянутой веревкой. Это было необходимо, поскольку Нил разливался и смывал любую другую разметку, позволявшую людям отличать свое поле от чужого, и каждый год ее приходилось делать заново. Колышки и веревки в данном контексте являются не слишком сложными вещами — у них всего несколько важных свойств, и они легко могут быть абстрагированы до свойств точек и линий на плоскости. Будучи записанными, эти свойства стали аксиомами планиметрии. Связь с реальным миром здесь очевидна, хоть в дальнейшем и рассматриваются только некоторые из его сущностных свойств.
Но для многих греков связь с реальностью была слишком незначительной деталью, чтобы обращать на нее внимание. Аксиомы были объявлены «самоочевидными истинами», взятыми силой чистой мысли у реальности, и философы перестали задумываться над тем, что аксиомы могли быть чем-то еще. Думать, что они отвлечены от таких простых вещей, как колышки и веревки, было бы слишком скучно. Поэтому Платон заявил, что все действительно важные истины можно либо умозреть непосредственно, либо логически вывести из первых путем чистого рассуждения. Более скромный человек, возможно, заключил бы, что есть истины математические, которые выводятся как следствия почти из любого набора положений, и есть истины, основанные на наблюдении, и это, вообще говоря, не одно и то же. Но опьяненному «греческим чудом» (как тогда называли математику), Платону уже было не остановиться.
Большинство, несомненно, решило, что так и есть на самом деле, хотя, когда хочешь узнать, чья лошадь бежит быстрее, гораздо дешевле, быстрее и интеллектуально менее затратно устроить скачки, а не сидеть и долго-долго думать. Но тем, кто спустил все свои деньги, играя на ипподроме, и одновременно имел предрасположенность к раздумьям, теперь казалось, что проблему все-таки лучше было решать чисто умозрительно, и они свысока смотрели как на владельцев лошадей, так и на тех, кто продолжал на них ставить. Привычка рассуждать подобным образом дошла и до наших дней.
___________________________________________
10 Речь, очевидно, идет об итальянском иезуитском монахе Джироламо Саккери и его исследовании, опубликованном в 1733 году под длинным названием «Евклид, очищенный от всех пятен, или же геометрическая попытка установить самые первые начала всей геометрии». Однако, не совсем верно, что Саккери не получил противоречия — точнее, сам он искренне думал, что получил, хотя сделал в одном месте ошибку. Именно эта ошибка и позволила ему остановить работу и с облегчением заключить, что он «вырвал эту зловредную гипотезу с корнем» (под «зловредной гипотезой» им понималось, как можно догадаться, отрицание постулата о параллельных).
___________________________________________
Так обстояло дело до тех пор, пока Бойяи, Лобачевский и Риман не представили свои результаты. Бойяи пытался получить противоречие, предполагая, что через точку можно провести несколько прямых, параллельных данной. Он трудился как сумасшедший, но так и не пришел к противоречию, решив в конце концов, что он создал новую геометрию — отличную от Евклидовой, но тоже допустимую. Риман шел по другому пути: он предполагал, что через точку вообще нельзя провести ни одной прямой, параллельной данной. И он тоже понял, что открыл другую геометрию — так называемую геометрию больших окружностей на сфере.
С точки зрения математиков, это означало, что с Платонизмом в общем и целом покончено. После того, как эти работы были прочитаны и поняты, аксиомы перестали быть самоочевидными истинами — они превратились просто в постулаты, которые могли быть интерпретированы как истинные высказывания о мире, возможно, несколькими различными способами. Или их можно не интерпретировать вовсе. В этом смысле математика не производит истин — она производит следствия. И аксиома о параллельных есть лишь изначальное условие, говорящее, что пространство, в котором мы будем работать, является плоским. Она ничего не сообщает нам о том, плоское ли пространство, в котором мы живем, на самом деле. Может быть — да, а может быть и нет. Это мы можем установить лишь с помощью наблюдений, и Гаусс, который моментально сообразил, в чем тут дело, предложил установить по телескопу на трех разных горных вершинах, и измерить сумму углов образованного ими треугольника. Если сумма окажется равной 180 градусам, то пространство плоское — по крайней мере, с точностью до погрешности измерения11. Если больше, то мы живем в римановом пространстве, если меньше, то — в пространстве Лобачевского. С помощью одних только умозаключений однозначного ответа мы не получим12.
___________________________________________
11 Говорят, что Гаусс углы действительно измерил. Ему же принадлежит и идея применения теории вероятности к оценкам ошибок в измерениях — и результаты Гаусса показали, что отклонение действительно существует, но не превышает величины вероятной ошибки измерения.
___________________________________________
___________________________________________
12 На самом деле, ситуация еще более неоднозначна, и на это впервые обратил внимание Пуанкаре. (Наиболее отчетливо его идея изложена в работе «Наука и гипотеза».) Предположим, говорит Пуанкаре, мы обнаружили, что сумма углов этого большого гауссова треугольника отклоняется от 180 градусов. Вместо того, чтобы отказаться от евклидовой геометрии, мы можем сказать, что это отклонение вызвано искривлением световых лучей. Мы всегда можем ввести новый закон для искривления лучей так, чтобы сохранить евклидову геометрию. Другими словами, у нас нет никакого достоверного способа предпочесть одну теорию другой! То же самое можно проделать не только с лучами, но и с самими измерительными инструментами — например, воображаемые двумерные существа, живущие на плоской тарелке, температура поверхности которой увеличивается с приближением к ее краю, будут думать, что они живут на сфере, потому что все их линейки будут расширяться от нагревания. Сам Пуанкаре при этом полагал, что физики всегда предпочтут второй путь, поскольку евклидова геометрия проще неевклидовой. Однако, Эйнштейн, как мы знаем, предложил именно первый путь. (Кстати, если двумерные сущности, живущие на терелке, нечувствительны к температурным изменениям, то им понадобится свой «Эйнштейн», чтобы задуматься о том, что у них, возможно, «не все благополучно» с линейками...).
___________________________________________
Я сказал, что есть две причины, по которым математики не разделяют платонистические методы. Второй причиной является революция в философии, которую совершил сэр Исаак Ньютон. Вы можете ощутить ее масштаб, прочитав трактат «О природе вещей» (De Rerum Naturae) Лукреция. Этот джентльмен написал длинную лирическую поэму о науке (так, как он ее понимал), в которой среди прочих вещей обсуждался вопрос о том, видим ли мы предметы потому, что что-то отделяется от них и попадает к нам в глаза, или это что-то из наших глаз каким-то образом протягивается к предметам, с тем чтобы их ощупать. Сравните это с «Оптикой» (Optiks) Ньютона и вы заметите существенные различия. Лукреций был философом, что называется, старой школы. Ньютон несомненно тоже был философом, но метод у него был другой, не-платонистический. Ему принадлежит фраза: Hypotheses non fingo, что буквально переводится как «гипотез не создаю», хотя он, конечно же их создавал. Но латинское fingo означает еще и выдумку, фикцию (fingo, fingere, fictum), и более точно выражение следовало бы перевести как «не делаю непроверяемых предположений».
Свой метод Ньютон изложил предельно ясно. Если Ньютон утверждал нечто, то впоследствии всегда могло быть экспериментально проверено или непосредственно само утверждение, или вытекающие из него логические следствия. Если же решить, истинно ли суждение, было нельзя, а спор мог остановиться только к удовольствию одного из спорящих, то он не тратил на это времени. Чтобы получить из утверждения такие логические следствия, которые потом можно было бы проверить, его требовалось сформулировать максимально четко, желательно алгебраически, а если этого сделать не удавалось, то — на латыни. Сегодня у нас нет второй опции.
Исключив из рассмотрения любые утверждения, о которых можно дискутировать, но истинность которых при этом не может быть установлена сочетанием наблюдений и логики, Ньютон вполне сознательно изменил правила игры. К примеру, вопрос о том, есть ли у кошек или камней те же права, что и у людей, теперь не мог бы начать обсуждаться, пока в него не была бы внесена определенная ясность. Первое, что спросил бы философ-ньютонианец, это: какое множество наблюдений, по-вашему, доказывало бы истинность вашего заявления? Если ответ содержит хорошо определенный перечень наблюдений, они действительно проведены, и ожидаемый результат получен, то следующий шаг будет состоять в том, чтобы потребовать обосновать наличие логической связи между этими наблюдениями и доказываемым тезисом. В случае дебатов о кошачьих правах никто не стал бы всерьез спрашивать, какие наблюдаемые данные могли бы подтвердить тезис, на том не лишенном здравости основании, что споры об этом не приведут нас к какому-то определенному ответу. Поскольку термин «право» не определен с достаточной точностью.
___________________________________________
13 Методологический принцип, известный как «бритва Оккама», состоит в том, чтобы «отсекать» при объяснении того или иного явления «лишние сущности», то есть такие понятия или факты, которые, участвуя в объяснении, не несут с собой никакой новой информации. Хрестоматийно «лишней сущностью» в этом смысле является понятие «бога-творца» в конструкциях, призванных объяснить происхождение жизни, поскольку его введение в объяснительную конструкцию лишь вынуждает заново задавать тот же вопрос — только теперь уже о происхождении самого «творца».
___________________________________________
___________________________________________
14 Критерий фальсифицируемости гипотезы или теории отделяет (маркирует) научную теорию от ненаучной. Согласно этому критерию, научной признается только теория, способная сформулировать также и перечень наблюдаемых следствий, которые бы ее опровергали (фальсифицировали). С этой точки зрения, эволюционная теория научна, поскольку может быть сфальсифицирована, если будут обнаружены виды, не являющиеся переходными. Психоанализ же не научен (по Попперу), поскольку ни одна гипотеза психоаналитика относительно, скажем, смысла сновидения или фантазии пациента, не может быть опровергнута.
___________________________________________
Разумеется, философов-«до-ньютонианцев» хватает и по сей день. Такие люди, как Сёрль, или мой маленький гость, несомненно обвинили бы нас, ньютонианцев, что мы совершенно игнорируем такие жизненно важные вопросы, как этика и природа сознания. Ньютонианцы отвечают на это, что мы не можем конструктивно высказаться по этим вопросам, потому что мы их не понимаем — и поэтому мы умолкаем. Но мы работаем над ними. К этике возможен подход через изучение эволюции и теорию повторяющихся игр15. Некоторые из нас пытаются писать компьютерные программы, которые на элементарном уровне обрабатывают информацию похожим с мозгом способом. Тем, кто хочет грандиозного всеобъемлющего объяснения, такой подход не принесет удовлетворения, однако он оказался весьма результативным в физике и химии — несмотря на то, что он, в основном, чрезвычайно медленный, глубоко специализированный и тербущий знания математики (это не реклама, а простая констатация факта).
___________________________________________
15 См, например: «Дилемма заключенного», раздел «Повторяющаяся дилемма заключенного». Подробнее об эволюции кооперации и других альтруистических эволюционно стабильных стратегиях см. у Axelrod R. The Evolution of Cooperation. Basic Books, 1984.
___________________________________________
Таков сегодня взгляд большинства работающих ученых.
Возможно, вы могли заметить легкий налет интеллектуального снобизма в таком взгляде на философию. В эпоху Платона можно было рассчитывать, что образованный человек с педантичным складом ума, способен понять доказательство любой проблемы, находящейся на переднем крае современной ему математики. Но никто не в состоянии даже ознакомиться со всеми направлениями исследований, ведущихся сейчас — их просто невероятно много. Поэтому не исключено, что некоторые из мнящих себя философами-ньютонианцев, никакие на самом деле не философы, а всего лишь технари, умеющие быстро делать сложные вычисления. Такое предположение не лишено оснований — учебные курсы по естественным наукам или математике, как и многие научные статьи, зачастую бывают занудны и скучны, что неизбежно, когда в них отсутствуют содержательные идеи более общего характера.
Также необходимо отметить, что кого-то, может быть, и восхитит подлинный философ-ньютонианец, если таковой найдется — однако было бы немудро звать его на вечеринку. Не желая обсуждать ничего, что он не понимал бы так глубоко, как большинство не будет способно понять никогда, он выглядел бы исключительно унылым собеседником. Можно с уверенностью сказать, что у него отсутствовало бы мнение о религии или политике, а взгляд на проблемы пола был бы либо сугубо теоретическим, либо грубо утилитарным, что по сути исключало бы любую заслуживающую внимания дискуссию. Даже Ньютон не был настоящим ньютонианцем, и вообще весьма сомнительно, чтобы жизнь позволила нам роскошь не иметь мнения ни о чем, что не могло бы быть сведено к логическому исчислению предикатов и сертифицированным отчетам о наблюдениях. Ведь хоть ньютонианское требование всякий раз удостоверяться, что тезис можно опытно проверить (и что логические следствия из него также опытно проверяемы), безусловно отсекает любую невразумительную чушь, похоже, оно отсекает почти все остальное тоже. Поэтому «Огненный лазерный меч Ньютона» должен использоваться с предельной осторожностью. С другой стороны, будучи использован правильно, он превращает философию в место, где проблемы действительно могут решаться, и могут делаться конкретные и зачастую далеко не очевидные выводы. Платоник же, вознамерившийся силой чистой мысли вывести из принципов, извлеченных им из мира идей, заключение о том, например, что эвтаназия или аборты всегда являются ошибкой, занят чем-то совсем другим.
Мне кажется, будет честно употребить «Огненный меч» в отношении философа, вмешивающегося в науку, которой он не понимает. До тех пор пока он задает вопросы и желает чему-то научиться, у меня не будет с ним конфликта. Если же он попросту пытается вовлечь вас в игру словами, не имеющую перспектив привести к чему-либо, то вы вправе решать, хотите ли вы в нее играть. Математикам и ученым кажется, что они нашли себе игру более трудную и приносящую большее удовольствие. «Огненный лазерный меч Ньютона» является одним из правил этой игры.
Mike Adler 2004 ©
Майк Адлер занимается математикой в Университете Западной Австралии. Им был опубликован ряд исследований по философии науки, хотя в настоящее время он работает над проблемой распознавания образов. Имеет ученые степени в области физических, математических и технических наук.
Оригинальный текст




